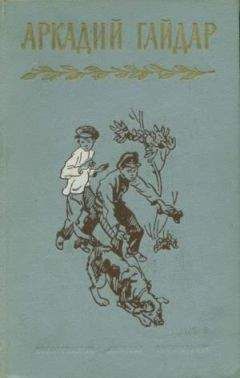Из дер. Головково 1938 год
Живу тихо, глухо, одиноко. Взялся за работу. Выйдет ли чего – не знаю! Вернусь, закончив повесть, к первому-из пяти листов оставлю, кажется, полтора два. Остальное чушь, белиберда. Все плаваю поверху, а нырнуть поглубже нет ни сил, ни уменья.
Огромная к тебе просьба. Возьми вложенный здесь пакет. 13-го января к двум часам съезди в Лаврушинский, в Управление по охране авторских прав. Зайди к директору, передай ему лично этот пакет и подожди ответа. Не забудь захватить с собой паспорт, потому что в пакете лежит заявление и доверенность на твое имя.
Милый Рувим, я ведь на самом деле сирота, и друзей у меня очень мало. Сделай, как я прошу, иначе мне придется сорваться с места и мчаться в Москву.
Если что нужно, то сообщи домой мой адрес. Но лучше бы без особой важности мне не писали…
Целую неделю читаю Карла Маркса, кое-что понял; других книг, чтобы не забивать себе голову, не взял.
Передай привет Косте[19]. Бог знает, чем я его обидел. Но если я обидел, то нечаянно.
Крепко жму твою руку. 9 января 1938 г.
Из Одессы (Май 1938 года)
Где ты? Кого любишь? Кого ненавидишь? С кем и за что борешься? Что ешь и что пьешь?
Я был в Ялте и Батуми. Летал в Кутаис, на обратном пути в Одессу. На время стоянки парохода опять заходил в Дом писателей в Ялте, никого там уже не застал. Я живу сейчас в домике на берегу моря. Здесь же меня кормят, усыпляют, умывают. Я работаю! Нужно в поте лица добывать трудовую копейку – это раз.
Во-вторых, надо чем-то оправдывать свое существование перед богом, людьми, зверями, перед разными воробей-птицами, соловей-птахами и также перед рыбой карась, линь, головель, лещ, плотва, окунь – а перед глупым ершом и перед злобной щукой оправдываться мне не в чем.
В Одессе я пробуду, вероятно, еще с месяц. К этому времени работу думаю закончить. И знаешь – конечно, море прекрасно, – но скучаю уже я по России. Где мой пруд? Где мой луг? «Где вы, цветики мои, цветики степные?» Всех я хороших людей люблю на всем свете. Восхищаюсь чужими домиками, цветущими садами, синим морем, горами, скалами и утесами.
Но на вершине Казбека мне делать нечего-залез, посмотрел, ахнул, преклонился, и потянуло опять к себе, в нижегородскую или рязанскую.
Дорогой Рува! Когда вы едете в Солотчу? Какие твои и Косты планы? Тоскую по «Канаве», «Промоине», «Старице», и даже по проклятому озеру «Поганому» и то тоскую. Выйду на берег моря – ловят здесь с берега рыбу бычок. Нет! Нету мне интереса ловить рыбу бычок. Чудо ли из огромного синего моря вытащить во сто грамм и все одну и ту же рыбешку? Гораздо чудесней на маленькой, чудесно задумчивой «Канаве» услышать гордый вопль: «Рува, подсак!» А что там еще на крючке дрягается – это уже наверху будет видно.
Дорогой Рува! Когда я приеду в Солотчу, я буду тих, весел и задумчив. К этому времени у меня будут деньги. 100 000 рублей я заплачу Матрене, чтобы она за мой долг не сердилась, 50 000 – старухам, 250 рублей отдам Косте, которые я ему должен, 5 руб. дам тебе, з с собой привезу два мешка сухарей, фунт соли, крупный кусок сахару, и больше мне ничего не надо.
Напиши мне, Рува, письмо. Хотя бы коротенькое: как жизнь, кто где, что, почему и все это почему? Привет Вале. Если же увидишь Косту, то пожми ему от меня руку.
Из этих теплых крымских стран,
Где вовсе снегу нет,
Рувим Исаич Фраерман,
Мы шлем тебе привет!
Придет пора, одев трусы
(Какая благодать!),
Ты будешь целые часы
На речке пропадать,
Где в созерцательной тиши,
Премудр и одинок,
Сидишь и смотришь, как ерши
Тревожат поплавок…
. . . . . . . . . .
Тилим-бом-бом! Тилим-бом-бом!
От ночи до зари
Об этом пели под окном
Нам хором снегири!
Сидели мы на солнышке, вспомнили и обругали тебя. Зачем сюда не едешь? Здесь жарко, всё в цвету, лежим на камнях, загораем. Рувчик, скоро вскроются реки и стаи вольных рыб воздадут хвалу творцу вселенной; ты же, старый хищник, вероятно, уже замышляешь против сих тварей зло. Увы! И я замышляю тоже!
Рувим! На земле война. Огонь слепит глаза, дым лезет в горло, и хладный червь точит на людей зубы.
Сергею Григорьевичу Розанову[20]
(Одесса, июнь 1938 года)
Дорогой Сереженька!
По просьбе К. Д. пересылаю тебе ее карточку. Она сдала уже испытания по интегральному исчислению и по органической химии. Боится за сопротивление материалов. Сопротивляемость, говорит она, у меня и у самой-то неважная.
Верочка – все та же, холодна, красива, но глупа и думает, что Мадам Бовари до Айседоры Дункан была женою Есенина.
Я сижу крепко работаю. Меня хвалят…
Еще просьба, позвони к Никитину[21]и узнай от него две вещи:
1) в каком положении «Барабанщик»?
2) – сложнее. Передаю тебе точный текст его телеграммы: «Телеграфируйте согласие печатать „Судьбу барабанщика“ в газете „Колхозные ребята“ Никитин».
Я ответил: – В газете печатать разрешаю. – Но потом мне показалось, что такой газеты как будто бы нет. С другой же стороны, он точно знает, что «Барабанщик» печатается в журнале «Пионер». Значит, ни в каких журналах печатать без Бобкиного разрешения его нельзя. Я писал ему открытку. Он не ответил.
Выясни, пожалуйста, конечно, по возможности с оборотом в мою пользу.
Вот пока о делах и все.
Получил ли ты мою открытку со стихами? Я приеду числа двадцать первого, а там мы с тобой что-нибудь придумаем.
Из дер. Головково
21 января 1938 года
Дорогой Сереженька!
Заканчиваю последние страницы повести.[22] К первому вернусь. Живу тихо, как волк.
Работал крепко, кажется выходит хорошо. Как-то ты живешь, сиротинка моя! Вероятно, костерите меня за одно дело (насчет займа) и в хвост и в гриву. Приеду, паду на колени.
Сережа! Недавно я сделал некоторые открытия. Усидчивая работа и одиночество навевают на человека волшебные сны [неразборчиво]…
Сережа! Завтра – 22 января – мне стукнет ровно без шести лет сорок. Молодость – «э пердю! Ке фер?»
И единственно, что меня утешает, – это яркий и поучительный пример твоей жизнерадостной старости. Дай же мне бог – дотянуть до такой же, сохраняя все те же присущие тебе качества – как-то: бодрость, веселье, умиротворение, мужество духовное и телесное.
В общем же дела мои хороши – повесть кончаю.
Гей! Гей! Не робей!
Тверже стой и крепче бей!
Гайдар
Из школьного дневника А. Гайдара
7 нед. 10–16 сентября 1917
11/24 Пн. Были все 5 уроков. Новую француженку зовут Софья Вацлавна Бернатович.
12/25 Вт. Были вопросы о выборе комитета.
13/26 Ср. Общая молитва отменена. Запись уроков в бальнике необязательна.
14/27 Чт.
8 нед. 17–23 сентября 1917
23/6 Сб. Выбирали после уроков в комитет.
Голиков – 20 голосов,
Доброхотов Б. Мешалкин } 14 гол.
Доброхотов Степанов } 11 гол.
9 нед. 24–30 сентября 1917
24/7 Вс. Первое собрание комитета у Ник. Ник. Вопрос об отсутствующих, о развлечениях и другие.
27/10 Ср. Было задано сочинение на тему: «Из школьной жизни», по плану.
10 нед. 1–7 октября 1917
3/16 Вт. Комитет постановил требовать от класса полнейшего спокойствия на всех уроках, главное – французском, законе и истории.
4/17 Ср. Первый день сегодня начались мелкие дожди.
6/19 Пт. Была на последнем уроке (французском) икона (урока не было).
7/20 Сб. Один голубь был подстрелен, 2 ранены (улетели).
11 нед. 8-14 октября 1917
8/21 Bс. 1 голубь подстрелен, пули вышли.
9/22 Пн. Географии не было. Старый урок заменили русским, разбирали (слепой закон).
10/23 Вт. Купил книгу («географию»).
11/24 Ср. «Калевала».
12/25 Чт. Приезжал Кузьма Васильевич от папы. Был у нас с 8 до 1 час. дня. Много рассказывал о папе и наконец, уехав, дал обещание заехать на обратном пути за посылкой. Написал письмо папе.
13/26 Пт. Написал письмо папе и послал его.
14/27 Сб. Был у Рейста. «Ночь на границе».
13 нед. 22–28 октября 1917
22/4 Вс. Был на эсеровском митинге.
23/5 Пн. Не было французского урока, отпустили.
24/6 Вт. Не было закона, с последнего урока отпустили.
25/7 Ср. Меня и Шнырова директор заметил, когда мы дрались на палках.
28/10 Сб. Будет письменная по алгебре.
15 нед. 5-11 ноября 1917
5/18 Вс. Кадетская лекция не была. Был на съезде крестьянских депут.
8/21 Ср. Был у Рейста на «Примадонне».
9/22 Чт. Не было рисования. Я выпросил пустой урок; были танцы.